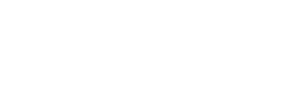Потенциал, вызовы и риски армяно-азербайджанского процесса
Эта статья впервые была опубликована в рамках инициативы «Линия соприкосновения».
Одна из наиболее примечательных тенденций последних месяцев, проявившихся как на уровне официальных армяно-азербайджанских контактов, так и медийной реакции на них, включая совместную площадку Ереванского и Бакинского пресс-клубов “Линия соприкосновения”, стал выход на первый план темы разблокирования коммуникаций и, в частности, восстановления железной дороги через Мегри. Два года назад этот аспект урегулирования армяно-азербайджанских отношений был выведен из общей переговорной повестки, однако сегодня по частоте предметных обращений государственных деятелей, политиков и экспертов двух стран, он, вероятно, превосходит даже проект мирного соглашения. Наиболее значимыми поводами стали, как отмечалось в предыдущей публикации “Линии соприкосновения” ирано-израильская война, доказавшая жизненную необходимость маршрута через юг Армении, и заявления посла США в Турции Томаса Барака о возможности аренды со стороны США Сюникской дороги.
Дополнительным фактором, актуализировавшим тему, стало также проанализированное в той же публикации обострение отношений Баку и Еревана с Москвой. Как известно, ссылаясь на ночное трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2020 года, Россия претендует на ключевую роль в эксплуатации маршрута. Однако, вопреки этому, Армения и Азербайджан, как минимум, на экспертном уровне поднимают вопрос о выходе обеих стран из трехсторонней межправительственной комиссии по разблокированию коммуникаций в регионе, созданной в январе 2021 года и по-прежнему формально возглавляемой вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.
Разумеется, с учетом крайней заинтересованности Москвы в обладании рычагами контроля над мегринской дорогой столь радикальный шаг связан для Баку и Еревана с определенными рисками. Поэтому, к примеру, Армения подбиралась к решению постепенно – выведя российских пограничников с КПП на границе с Ираном и заявив о планах отказаться в дальнейшем от их услуг на всем протяжении армяно-иранской границы. Окончательному решению вопроса могло бы поспособствовать подключение к теме мощного внешнего гаранта. Не случайно еще до упомянутых сенсационных заявлений Томаса Барака, огромный интерес медийного и экспертного сообществ Армении и Азербайджана вызвала статья аналитика Фонда Карнеги Олеси Варданян, в которой высказывается версия, что администрация президента США Дональда Трампа представила Еревану и Баку предложение о помощи в задействовании маршрута, соединяющего “материковый” Азербайджан с Нахиджеванским эксклавом через армянскую территорию. При этом в качестве оператора, якобы, предлагалась американская компания. Часть версии, высказанной в статье — о планируемой в июле встрече Алиева с Пашиняном в ОАЭ уже реализовалась… Правда, официальная информация о переговорах в Абу-Даби не свидетельствала о том, что главной темой здесь было разблокирование коммуникаций, однако дальнейшее развитие событий показало, что МИДы АР и РА многое не договаривали.
Кстати, наблюдатели обратили внимание на схожесть двух сообщений для прессы, указывающих на восстановленную после более чем полуторагодичной паузы практику согласования подобных текстов. Предыдущий прецедент имел место в декабре 2023, когда стороны объявили о поддержке друг друга в вопросах проведения конференций ООН по изменению климата (Баку, ноябрь 2024 года) и по биоразнообразию (Ереван, октябрь 2025 года). Даже о поддержке друг друга в мае с.г. в Тиране при определении мест проведения саммитов Европейского политического сообщества (Ереван в 2026 и Баку в 2028 годах) согласованных пресс-рилизов не было.
Еще одним, хоть и не столь значимым, как Россия, фактором, сдерживающим восстановление Мегринской дороги (или “Зангезурского коридора”, как ее называют в Азербайджане), долгое время был Иран. Хотя эксплуатация этого маршрута противоречила, прежде всего, интересам именно Тегерана, который сам заинтересован играть ключевую роль в соответствующих транспортных коммуникациях, он подавал свою позицию как защиту суверенитета Армении, и в армянском обществе она многими так и воспринималась. Из этого вытекали определенные морально-политические обязательства Еревана в отношении южного соседа. Однако не только ирано-израильская война, но еще, как минимум, два события, условно говоря, освободили Армению от этих обязательств.
Сначала 22 июня с.г. Иран присоединился к декларации Совета министров Организации исламского сотрудничества, которая в одностороннем порядке поддерживала право возвращения азербайджанцев в так называемый “Западный Азербайджан”, т.е. на территорию Республики Армения. А затем 4 июля Президент ИРИ Масуд Пезешкиан прибыл в Нагорный Карабах для участия и выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), хотя, как известно, после массового исхода из НК армянского населения в Армении крайне эмоционально воспринимают посещение этого региона зарубежными официальными лицами.
Как бы то ни было Иран, фактически, поспособствовал в предыдущие годы “стойкости” армянской позиции по недопущению контроля России над Сюникской дорогой. А в новой ситуации наиболее конструктивным решением была бы параллельная эксплуатация ставшего предметом жарких дискуссий железнодорожного сообщения вдоль реки Аракс по территориям как Ирана, так и Армении. Соображения безопасности и учета непосредственных интересов всех стран региона подсказывают именно такой, на первый взгляд, не очень прагматичный способ преодоления противоречий.
Несмотря на поводы для оптимизма, диалоги в рамках инициативы “Линии соприкосновения” подтверждают сохранение существенных вызовов и рисков для армяно-азербайджанского урегулирования. Обсуждая различные аспекты темы и прогресс, достигнутый в последние месяцы, эксперты не могли обойти стороной дальнейшие перспективы и факторы, обусловливающие открытие и закрытие нынешнего “окна возможностей”. Одним из них, сколь бы не говорилось о приоритете двустороннего переговорного формата, остается международная и региональная обстановка, уровень внимания крупных игроков и механизмы стимулирования ими предметного диалога между Ереваном и Баку. Учитывая стремительно меняющуюся ситуацию в мире, аппетит на армяно-азербайджанское урегулирование, в том числе, у США и ЕС может и снизиться.
Сегодня много говорится о консолидирующем интересы двух стран их противостоянии с Москвой. Но эта тенденция также может ослабнуть, тем более что Россия, не желая уходить из региона, будет применять в отношении Азербайджана и Армении не только кнут, но и пряник. В этом контексте не может не вызывать вопросы поездка Никола Пашиняна на Алтай. Ну, и, разумеется, степень российской активности в регионе будет напрямую зависеть от того, как у Москвы пойдут дела на украинском фронте.
Демонстрирующая сегодня заинтересованность в поиске решений Турция может быть вынуждена отвлечься от конструктивного участия в процессе, если в силу тех или иных субъективных или объективных обстоятельств, в частности, обострения внутриполитической ситуации у нее возникнет нужда сосредоточиться на иных проблемах.
Нельзя сбрасывать со счетов и возможность более активной вовлеченности в регион Китая, особенно в случае пересмотра приоритетов западными игроками – это, прежде всего, относится к волатильности нынешней политики США. Подобная смена контекста не может не сказаться на последовательности и логике запускаемых сегодня процессов.
Нетрудно предположить, что интенсивность переговоров обусловлена предвыборной ситуацией в Армении. Как премьер-министр РА и его правящая партия, так и партнеры, включая, скорее всего, Азербайджан, заинтересованы, чтобы ко дню голосования 7 июня 2026 года у Пашиняна было что предъявить электорату из декларированной им повестки мира. Однако после выборов описанный расклад может и не сохраниться.
Эти и другие реалии вокруг Армении и Азербайджана говорят о том, что в современном мире необходимо дорожить и максимально использовать открывшееся окно возможностей.
Соответственно, главная рекомендация для всех сторон, заинтересованных в нормализации армяно-азербайджанских отношений и достижении стабильности на Южном Кавказе — консолидировать усилия в ближайшие месяцы и воспользоваться сложившимися благоприятными обстоятельствами для поддержки интенсивного и последовательного переговорного процесса между Баку и Ереваном.
В частности, ресурсами и практиками, которые могут оказаться полезными для процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном, обладает Европейский союз. Сферы и области его вовлеченности могли бы быть обсуждены с непосредственными сторонами конфликта и включены в скоординированную “дорожную карту” для мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом процессе трудно переоценить роль США и координации усилий с ними.
Сохраняя в качестве стержня своей южно-кавказской политики нормализацию армяно-азербайджанских отношений, Евросоюз, естественно, рассматривает те элементы этого процесса, которые предполагают вовлеченность соседних государств, в частности, Турции и Грузии, и возможности работы в расширенном формате.
Учитывая, что Европейский Союз накопил существенный опыт в выстраивании мер доверия между конфликтующими сторонами, и принимая во внимания что этот аспект урегулирования отмечен по итогам встречи в Абу-Даби 10 июля с.г. как один из ключевых, можно ожидать поддержку доказавших свою эффективность инициатив, нацеленных на конструктивный армяно-азербайджанский диалог. А с учетом возможности подключения других стран региона этот диалог должен будет раздвинуть сегодняшние тематические рамки. Определенные риски здесь содержит распространение “моды” на миротворчество, подключение к которому субъектов, вовлеченных совсем недавно в пропаганду ненависти и вражды, способно ослабить потенциал “Track-2” (дипломатии “второго уровня”).
Вместе с этим сохраняют актуальность меры по противодействию дезинформации и пропаганде вражды и ксенофобии, гибридным методам, направленными на разжигание или консервацию конфликта. В частности, актуальным представляется изучение инструментария деструктивной пропаганды, препятствующей достижению согласия между Баку и Ереваном, разработка соответствующего “противоядия” и гармонизация этих усилий с позитивными совместными шагами в информационно-аналитической сфере.